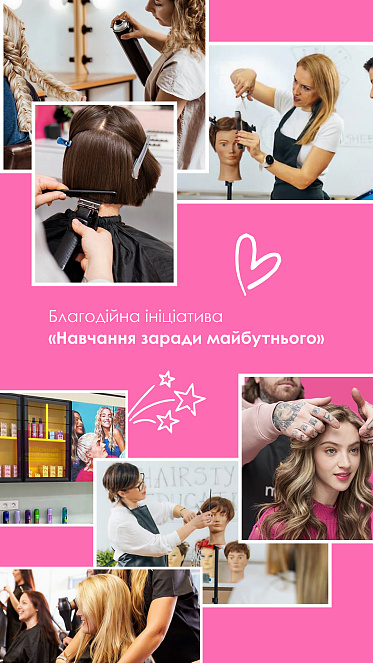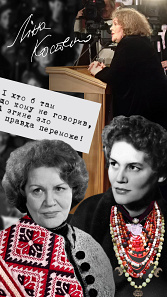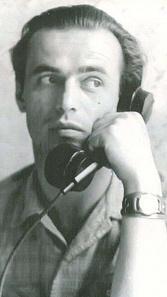Мысль изреченная есть ложь. Если как следует задуматься над этой фразой, то выйдет, что всем нам в поисках правды нужно молчать. Но правда иногда бывает по-стальному холодной, не тешит гордость и не радует глаз, считает Мария КРУПНОВА
Помню, как я последний раз сознательно солгала: уезжала вместе с двумя американскими журналистами в командировку в Сибирь. В религиозное сообщество, которое многие называли сектой. В страшном цейтноте, не сделав соответствующих прививок против клещевого энцефалита. Не имея специальной теплой одежды, да еще и в плохом настроении. Родителям я тогда сказала, что еду в Хакассию и что все «так прекрасно, так прекрасно…» В общем, навешала им на уши розового киселя. Не жалею ни о единой реплике: зато я твердо знаю, что самые дорогие мне люди спокойно спали все одиннадцать дней моего отсутствия. Через эти одиннадцать дней я спокойно рассказала им правду. Но серьезной ложью мою выходку назвать трудно. Скорее, я намеренно исказила факты, зная, что после некоторой задержки выложу все начистоту. Тем более никакой личной выгоды за свою «неправду» я получить не намеревалась. Своей ложью я «покупала» спокойствие близких.
Странное это выражение «ложь во спасение» обязано своим появлением некорректному использованию библейского текста. В церковнославянском варианте (Ветхий Завет, Псалтырь, Пс. 32:17) сказано: «Ложь конь во спасение, во множестве же силы своея не спасется». Говоря современным языком: «Ненадежен конь во спасение, не избавит великою силою своею». Смысл в том, что, случись что, и конь добрый не спасет, коли нет на то воли божьей.
При этом в Книге книг особого негатива по отношению ко лжи нет. В девятой заповеди, которой оперируют лжененавистники, говорится не про ложь «вообще», а про свидетельство в суде. И на форуме одной американской молодежной группы «правдолюбов» настоятельно советуют не врать там же, дотошно ссылаясь на конституцию США. А в остальном практичные американцы даже укажут на некоторые ситуации, когда врать не только разрешается, но и рекомендуется. Например, подруге про то, что ей идет платье (а что делать, если она феноменально обидчивая и даже нейтральная ремарка о новом наряде сможет испортить ваши отношения на месяц?).
Мне очень запомнился спор двух совсем юных мальчиков. Последним аргументом отчаявшегося защитника лжи во спасение был следующий: если гестапо приходит к тебе в дом в поисках еврея, которого ты прячешь, то абсолютно правильным будет солгать, утверждая, что никого в доме нет.
Подобная тема статьи — отличный повод написать полсотни писем во все точки земного шара с целью выведать, врут твои друзья в час икс или нет. Первый ответ приходит из Лондона, бармен Йурга даже извиняется, что никогда не приходилось, но она не сомневается в своих способностях: как только придется что-то или кого-то спасать, она соврет непременно.
У питерской знакомой есть соседка, которая каждую неделю отправляет своей матери письма от имени погибшего брата. Даже на почте все в курсе этой длинной истории. Дело в том, что старенькая Антонина Петровна, пережившая блокаду и два инсульта, вести о гибели своего любимого сына, по признанию дочери, просто не перенесет. Вот и получает свою порцию «искусственной жизни» еженедельно.
Разве это не ситуация, когда человек сдается перед правдой? В определенный момент он почему-то решает, что придумать другую реальность проще, надежнее, безопаснее. Француженка Вера сдаваться пока не намерена, но и ложь ради благой цели ее не смущает. Она отсылает меня к немецкому фильму «Гуд бай, Ленин!», где рассказывают историю берлинской семьи во время объединения Германии. Мать главного героя серьезно больна, ее сын вместе с друзьями симулирует сохранение ГДР. Доходит, конечно же, до абсурда: в помойке он ищет банки из-под горошка «Глобус», переклеивает этикетки, снимает фальшивые выпуски новостей и выпутывается из других сложных ситуаций.

Поскольку и в реальной жизни ложь способна окольцевать кого и что угодно, то фильм начинается и заканчивается неправдой. Сначала мать врет детям про отца, который сбежал в ФРГ. Потом, сотворяя вымышленную ГДР, врет сын, чтобы не травмировать психическое здоровье матери. И в самом конце снова врет мать, чтобы оправдать ожидания сына: в итоге она, конечно же, узнает, что стало с картой мира, но потрясена той заботой, которую проявил ее ребенок.
Есть в фильме какой-то парадокс свободы. И трудно понять, то ли герои, заигравшись и лишившись реальности, от нее совсем освободились, то ли они, наоборот, бродят по Берлину с гирями «несвободы» на шеях.
Наверное, в идеальном мире правда должна делать свободным. Так меня учили в советской школе (которую вполне можно назвать идеальной для того государства, в котором она существовала). И плакат на стене соответствующий имелся. Но в школе не проходили, например, что делать, если неизлечимо заболевает кто-то из родственников или из семьи уходит муж. Уже гораздо позже, лет через пятнадцать, мне стало почти очевидно, что в догадках коллективного разума рождается некая модель поведения, которую, став взрослым, спокойно способен повторить любой человек в нашем неидеальном мире.
Подруга из Киева заставила меня подпрыгнуть от удивления, рассказав в письме историю своей сестры. У ее мужа появляется любовница. Сестра покупает новую симкарту и отсылает мужу смс такого содержания: «Игорь, одумайся! Что ты делаешь? У тебя такая хорошая семья, жена, дети. Я твой друг, мой тебе совет: одумайся». От недоумения или от страха муж действительно начинает задумываться. Через какое-то время героиня опять от имени друга шлет собственному мужу смс: «Ты таскаешься не пойми с кем, на работе узнали, все судачат, не ставь себя в глупое положение». Выдавая себя за друга мужа, жена посылала сообщения так часто, как это позволял баланс. Вышло так, что их отношения вскоре восстановились. Не знаю, можно ли это назвать спасением собственной чести и семьи, но своего дама добилась.
Следующую историю про американца Стива я вообще слышала с десяток раз. Можно только подставлять имена: модель международная. Семейная жизнь Стива проходила под диагнозом «бездетность». Два брака после нескольких лет совместной жизни развалились. Третий брак оказался благополучным благодаря сообразительности жены. Она, изменяя ему с кем-то, родила сына, а потом дочь. Он — счастливый отец семейства, горд детьми, и все говорят, как сын похож на папу, а дочь на маму. А вот русская вариация на тему нетерпеливых женщин: лаборантка Ирина очень долго не могла забеременеть, поехала на отдых в санаторий и через пару месяцев ушла на легкий труд вследствие беременности. Родилась дочь Агата. Половине знакомых, которых я попросила оценить такой поворот событий, показалось, что это мудрое решение в данной ситуации.
Но где мудрость решения граничит с предательством и правом вмешиваться в чужую судьбу? И нужно ли будет когда-то сказать ту самую горькую правду: пусть не мужу, так ребенку? Сразу вспоминаются латиноамериканские телевизионные эпопеи, где сотни сюжетных линий были выстроены на одной маленькой, почти незаметной лжи, которая спустя сто серий перерастает в катастрофу. То главная героиня вот так вот забеременеет, то детей перепутают в роддоме и забудут признаться, то еще какие-то игры с кровью и привязанностями затеют.

Есть еще одна проблема. Мне кажется, подсознательно мы всегда чувствуем, кому и про что можем наврать. Поскольку стандартная коммуникация включает в процесс более одного человека, то допустить, что он на кое-что способен делать скидку, соглашаясь на общение с тобой, вполне возможно. Вы как бы заключаете своеобразный договор, который затем обеспечивает обеим сторонам изрядную долю спокойствия. Что-то подсказывает, что старушка, получающая письма еженедельно, вполне может осознавать смерть своего ребенка хотя бы на уровне материнской интуиции. Уверена, что и Стив, догадываясь о своем бесплодии, против обмана жены не возражал. Это как в «Чужих» Юрия Грымова: бездетная пара вдруг оказывается родителями очаровательной смуглой малышки, которую мать зачала в дикой восточной стране во время врачебной миссии почти на глазах у мужа. И ответ на вопрос «могут ли строиться отношения на лжи во спасение?» выходит совсем уж утвердительный. Но так ли уж тяжело говорить правду?
Недавно мне рассказали об опыте одной британской пары, которая решилась прожить год и не лгать друг другу ни при каких обстоятельствах. Потом пара пришла в редакцию газеты Daily Mirror и поведала журналистам, что ничего в их отношениях не изменилось, что они по-прежнему любят, по-прежнему уважают свою половину. Вот так просто. Никаких пикантных подробностей и сюрпризов. Значит, не обманывать все-таки можно.
Моя знакомая тетя Лида, которой сейчас около шестидесяти, на вопрос, доводилось ли ей когда-нибудь врать, отвечает: «Приходилось, конечно, по мелочам, но врать я не любитель, предпочитаю обходиться без этого». Мне больше всего нравится ее история решения одного хозяйственного вопроса. Считаю, что придумано все было мастерски. Когда строитель Александр делал ремонтные работы в одной из ее квартир, то жутко это дело затянул по простой причине: его тяжело было контролировать, поскольку в стране, где находилась квартира, никто из собственников не жил, а указания по ремонту давались дистанционно. Александру было удобно приходить в пустую квартиру и работать, когда ему вздумается, — то есть почти никогда, причем одновременно, как донесла разведка, он халтурил где-то еще. «Я не знала, как мне на него подействовать. Я придумала, что приеду на весенние каникулы в город и сдам квартиру молодой семье. Это сработало. Я приехала, а он к моменту моего отъезда все доделал и отдал мне ключи. Обман никому не навредил, а работа продвинулась». Я аплодирую. Здесь я на сто процентов уверена, что обман действительно сыграл только положительную роль. Но ведь ложь была в общем-то «никакая», святая простота. Тете Лиде очень хотелось увидеть, в какой труд конвертировались уже заплаченные ею деньги, она всего лишь «подстегнула» своего работника.
Еще пример: коллега Марина, узнав, что ее мать умирает от рака, до последнего дня убеждала ее в том, что она поправится. Сейчас, рассказывая мне о прошлом, она испытывает горечь: ей стыдно перед матерью, та все-таки догадывалась, что уже никогда не встанет. (Кстати, та же Марина способна горячо отругать сына-подростка всего лишь за то, что тот удрал с занятий в школе и гулял в парке с девочкой, а ей сообщил, что весь день был на занятиях.)

Совершенно очевидно, что разница между ложью больной раком матери или в пользу скорейшего завершения ремонта огромна. Должна ли такая разница формировать в голове барьер: тут соврать могу, имею право, а тут уже нет? Вопрос деонтологии, на котором сломали немало копий и великие умы, и любознательные правдолюбы, запросто способен вогнать меня в ступор на сутки. Потому что взаимоотношения человека с правдой — это, пожалуй, еще сложнее, чем взаимоотношения мужчины с женщиной. Потому что, собственно, вторые, наверное, и строятся на первых.
Добрый друг, журналист из Израиля, проживший на свете достаточно много лет и многое повидавший, говорит: «Ложь, как мне кажется, просто органическая часть нашей жизни. Уберите ее, и жизнь потеряет изрядную долю своего аромата».
Но как быть с тем, что врать — это все-таки признак трусости, это именно тот пас, который мы выдаем реальности, когда в определенном ее виде боимся? А может, есть какие-то специальные условия, в которых все врут? То есть, например, эти классические случаи в медицинской практике, когда лучше сказать больному, что есть шанс и он поправится, чем лишить его надежды и убить?
Советская медицина — при всех ужасах советского строя — врала напропалую. А медицина западная всегда придерживалась той точки зрения, что больной должен знать правду, — для того хотя бы, чтобы вовремя составить завещание. На этой западной правде, считает мой коллега из Тель-Авива, умер великий актер Евгений Евстигнеев. Его привезли в Англию делать операцию на сердце, и врач, как это принято «у них», рассказал пациенту, что будет делать, как и какие могут быть последствия. «Но Евстигнеев был, во-первых, «наш» и привык, чтобы врачи его успокаивали. А во-вторых, еще хуже: английский врач не учел, что перед ним гениальный артист, то есть человек, способный не только понять, что ему говорил этот самый врач, но и вообразить это!» Так случилось непоправимое.
Во второй Яме, одной из известных заповедей йоги, говорится, что, если какие-то слова могут причинить вред, их нельзя считать истиной в высшем смысле. Рискуешь навредить — молчи. Уверена, что ни один европейский или американский врач по этому принципу молчать не собирается. Но западные медики — «не наши».
А вот на что способны «свои», и не врачи. В ходе Великой Отечественной войны журналист Кривицкий на свой страх и риск выдумал слова: «Велика Россия, а отступать некуда», которые приписал политруку Клочкову. Как однажды написал Олег Кашин, «его сознательная ложь вполне могла стать тем решающим фактором, который, переломив общественные настроения в дни битвы за Москву, повлиял на ее исход».
Я долго думала и решила. Наверное, если для спасения Москвы или дорогого мне человека мне придется изречь нечто вроде: «Наполеон зарезал Христофора Колумба в 1991 году на крыше Белого дома и получил за это приз на Каннском фестивале», то я сделаю это с такой убедительностью, что все, кто услышал, побегут сверяться с электронными энциклопедиями. Но это только в исключительных случаях: никаких историй с платьями подруги. Еще больше я буду рада промолчать. Как говорит моя мудрая коллега, «я во спасение недоговариваю... всегда». Тут и коня запрягать не нужно.
Фото: Mario Sierra